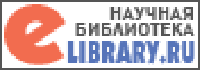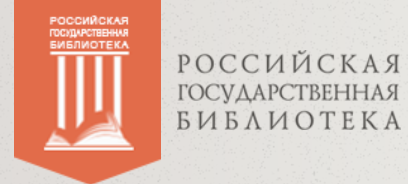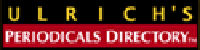Международно-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного воздушными судами третьим лицам в результате актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации
Международно-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного воздушными судами третьим лицам в результате актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. При первом знакомстве с бизнес-авиацией, многие пассажиры удивляются, видя небольшие 5-местные турбовинтовые самолеты, предлагаемые авиакомпаниями для аренды. Однако и такие типы воздушных средств могут удовлетворить запросы пассажиров. Если Вам интересно узнать больше об аренде частного самолета, специалисты https://www.jetsettravelclub.com/biznesaviatsiya/ будут рады рассказать Вам о процессе аренды бизнес-джета и помогут сделать Вам лучший выбор.
Действующим международным договором, закрепляющим механизм возмещения ущерба, причиненного гражданскими воздушными судами третьим лицам, является Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности (Рим, 7 октября 1952 г., в редакции Протокола об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности, подписанной в Риме 7 октября 1952 года (Монреаль, 23 сентября 1978 г.)) [22] (далее -Римская конвенция 1952 г.). Юристы отмечают, что данный договор в современных условиях не является всеобъемлющим, поскольку не регулирует случаи причинения ущерба в результате актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации (далее - акты незаконного вмешательства, АНВ) [5]. На Дипломатической конференции по воздушному праву, проходившей в рамках ИКАО с 20 апреля по 2 мая 2009 г. В г. Монреале (далее - конференция), были приняты две конвенции (далее - Конвенции 2009 г.), призванные модернизировать положения Римской конвенции 1952 г.: Конвенция о возмещении ущерба, причиненного воздушными судами третьим лицам (Монреаль, 2 мая 2009 г.) [9] (далее - Конвенция об общих рисках 2009 г.), и Конвенция о возмещении ущерба третьим лицам, причиненного в результате актов незаконного вмешательства с участием воздушных судов (Монреаль, 2 мая 2009 г.) [10] (далее - Конвенция о возмещении ущерба в результате АНВ 2009 г.). К настоящему моменту Конвенции 2009 г. пока не вступили в силу, поскольку они ратифицированы недостаточным количеством государств [14, 15].
В основу содержания как Римской конвенции 1952 г., так и Конвенций 2009 г., положен один и тот же принцип - материальной ответственности эксплуатанта воздушного судна за ущерб, причиненный воздушным судном третьим лицам. Ответственность эксплуатанта является абсолютной, или объективной, то есть не зависящей от наличия его вины или нарушения им какого-либо обязательства при причинении ущерба. При этом ответственность эксплуатанта ограничена (Конвенция о возмещении ущерба в результате АНВ 2009 г. предусматривает случаи неограниченной ответственности, если будет доказано, что эксплуатант или его служащие способствовали совершению акта незаконного вмешательства действиями или бездействием, совершенными с намерением причинить ущерб или по неосторожности и с сознанием того, что в результате может быть причинен ущерб, п. 2 ст. 23), и ее пределы устанавливаются в зависимости от максимальной массы воздушного судна. Но если обоснованность привлечения эксплуатанта к материальной ответственности за вред, причиненный третьему лицу воздушным судном не в результате актов незаконного вмешательства, пусть даже и при отсутствии вины эксплуатанта или нарушения им какого-либо обязательства, с учетом возможности страхования риска причинения вреда, в целом не вызывает вопросов, то в случае с актами незаконного вмешательства возникают сомнения.
Во-первых, после событий 11 сентября 2001 г. авиационные страховщики стали отказываться от страхования эксплуатантов от военных рисков [8], а значит, обязанность по возмещению ущерба от актов незаконного вмешательства полностью легла непосредственно на эксплуатантов.
Во-вторых, по мнению некоторых авиаперевозчиков [19], они, как и пассажиры, и третьи лица, которым причинен ущерб, являются потерпевшими от актов незаконного вмешательства, и возложение обязанности по возмещению вреда только на них несправедливо, тем более что меры обеспечения безопасности гражданской авиации в значительной степени определяются Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и правительствами государств-членов, а перевозчики и так несут ответственность перед пассажирами.
Логично было бы предположить, что к материальной ответственности должны быть привлечены лица, причастные к актам незаконного вмешательства. Однако в докладе Юридическому комитету ИКАО 2008 г. М.Б. Дженнисон указал, что отсутствие в тексте проекта Конвенции о возмещении ущерба в результате АНВ положений о непосредственной материальной ответственности преступников перед потерпевшими объясняется, с одной стороны, высоко вероятным отсутствием у «лиц, которые подлежат наказанию», «сколько-нибудь значительных активов», а с другой стороны - тем, что «было бы совершенно несправедливым рассчитывать, что потерпевшие будут заниматься поиском террористов» [19]. Представляется, что данные аргументы не совсем убедительны.
Во-первых, «лица, подлежащие наказанию» согласно Конвенциям 2009 г. [11, 12], - это не только непосредственные исполнители преступления, но и соучастники, включая организаторов и пособников, которые могут обладать значительными активами. Более того, принятые годом позже Пекинский протокол [20] и Пекинская конвенция [13] предусматривают и ответственность причастных к АНВ юридических лиц, которые также могут обладать средствами, необходимыми для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим.
Во-вторых, обязанности по поиску преступников обычно и не ложатся на потерпевших от преступлений, этим занимаются соответствующие государственные органы. Другое дело, что поиск лиц, виновных в совершении преступления, может затянуться или не дать результатов, а компенсация ущерба необходима незамедлительно.
Высказывалась также точка зрения, что акты незаконного вмешательства, особенно имеющие террористическую направленность, можно приравнять к стихийным бедствиям, таким как ураганы, цунами, землетрясения и извержения вулканов, ответственность за последствия которых берут на себя правительства, а компенсация ущерба, причиненного жертвам таких событий, является «обязанностью суверенных государств» [7]. М.Б. Дженнисон в докладе отметил, что данная аналогия неудачна, поскольку, хотя государства и «делают все возможное для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий в рамках имеющихся у них средств,... однако очень редки случаи, когда государство берет на себя заботу о восстановлении экономического благополучия каждой жертвы, не говоря уже о создании институциональных механизмов для единообразного и универсального рассмотрения исков пострадавших в стихийных бедствиях» [7]. Можно также отметить, что сравнение АНВ со стихийными бедствиями в принципе некорректно. Акты незаконного вмешательства не являются обстоятельствами, которые невозможно предотвратить в силу того, что их невозможно предвидеть. Вопросами противодействия таким актам занимаются и соответствующие государственные органы, и сами эксплуатанты, в частности, при применении технических мер безопасности в аэропортах. Как показала практика, эффективная работа государственных структур и добросовестное соблюдение требований безопасности позволяют и предотвращать, и раскрывать готовящиеся нападения.
Позиция представителей авиационной индустрии на конференции была однозначной: в случае причинения ущерба воздушными судами третьим лицам в результате актов незаконного вмешательства материальную ответственность за такой ущерб должны нести государства, а не эксплуатанты [1]. Кроме того, как указывали представители Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в ходе конференции, реальным объектом актов незаконного вмешательства, как правило, являются именно государства, а не гражданская авиация как таковая, которая выполняет лишь роль орудия для достижения цели [1].
Указанная позиция представляется обоснованной, однако следует разобраться, насколько с правовой точки зрения возможно привлечение государства к ответственности за деяния, совершенные частными лицами?
Проектом статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния 2001 г. [21] не предусмотрено присвоение государству поведения частных лиц, однако доктрина в целом такую возможность не отрицает. В течение ряда лет различными исследователями разрабатывались теории, обосновывающие присвоение государству поведения частных лиц.
Теория, появившаяся раньше остальных, так называемая «теория соучастия» («complicity»), подразумевает, что государство, не принявшее меры для предотвращения правонарушения и (или) не наказавшее виновных в его совершении, является соучастником этого правонарушения. Данной точки зрения придерживался, в частности, еще Г. Гроций [6].
Позже в международной практике было проведено различие между соучастием государства в правонарушении и невыполнением государством обязанности предотвратить его совершение или наказать виновных.
В 1925 г. Комиссия по рассмотрению общих споров между США и Мексикой вынесла решение по делу Лаура М.Б. Джейнс и др. (США) против Объединенных Мексиканских государств [3], возбужденному по жалобе США от имени семьи убитого в Мексике американского гражданина. США утверждали, что Мексику следует признать соучастницей преступления, поскольку мексиканские власти не проявили должной заботы для его предотвращения и не осуществили надлежащего уголовного преследования виновного лица. В решении от 16 ноября 1925 г. Комиссия указала, что о соучастии государства можно говорить применительно лишь к очень узкому кругу деяний, когда государство не предотвратило умышленное насильственное преступление, зная о его подготовке и имея возможность вмешаться [3].
В остальных случаях следует говорить лишь о невыполнении государством его самостоятельных обязанностей по предотвращению преступления и (или) наказанию виновных, но не о соучастии в преступлении. Соответственно, в рассматриваемом случае Мексику нельзя считать соучастницей преступления, поскольку она только недостаточно ответственно отнеслась к своим обязательствам в связи с преступлением, но не принимала участия в совершении самого преступления [3].
Таким образом, теория соучастия была несколько уточнена. Такой уточненный вариант в доктрине [1] называют «теория прощения» («condonation»), то есть непринятие мер для предотвращения правонарушения и ненаказание виновных являются не «соучастием», а «прощением» государством неправомерного деяния, совершенного частным лицом. Данную теорию в литературе называют также концепцией «самостоятельного правонарушения» («separate delict») [2], согласно которой государство несет ответственность только за свое неправомерное поведение (которым может быть, опять же, непринятие мер для предотвращения правонарушения, ненаказание виновных в его совершении, а также оказание поддержки частным лицам при совершении ими неправомерного деяния) в рамках правонарушения, а не за все правонарушение, совершенное частным лицом. Аналогичной точки зрения придерживался и Д.Б. Левин, который указывал, что, «строго говоря, оно [государство] несет ответственность не за действия частных лиц как таковых, а за поведение своих органов, которые не предотвратили такие действия или не наказали их виновников» [17]. Можно отметить также такую вариацию данной теории, как разделение ответственности государства на прямую, или непосредственную, ответственность за свои собственные деяния и косвенную, или производную, - за деяния частных лиц [18].
Международная практика подтверждает возможность привлечения к ответственности государства в связи с деянием частного лица. Помимо упомянутого дела Лаура М.Б. Джейнс и др. (США) против Объединенных Мексиканских государств достаточно вспомнить решение Международного Суда ООН от 24 мая 1980 г. по делу о дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране, где Суд указал, что государство, в котором было захвачено иностранное посольство, несет ответственность за то, что им не были приняты все необходимые меры для защиты посольства от захвата или для восстановления контроля над ним [16].
Соответственно, в ситуации, когда государством не был предотвращен акт незаконного вмешательства, привлечение государства к ответственности не противоречит международному праву. При этом необходимо учитывать, что в данном случае речь идет о международной ответственности в классическом смысле слова, то есть ответственности за международно-противоправное деяние.
Теперь следует обратиться к тексту Конвенции о возмещении ущерба в результате АНВ 2009 г. Сформулированы ли в данном документе какие-либо правила об ответственности государства в связи актами незаконного вмешательства, совершенными частными лицами?
Положения Конвенции 2009 г. об ответственности касаются исключительно материальной ответственности за причинение вреда. В документе предусмотрена двухуровневая система возмещения ущерба:
- первый уровень. Компенсация ущерба эксплуатантом, которая также обеспечивается за счет страхования;
- второй уровень. Дополнительный механизм возмещения (далее - ДМВ) с очень высоким пороговым пределом: компенсация части ущерба, не возмещенной в рамках первого уровня, предусмотрена на случай повторения событий, аналогичных нападениям 11 сентября 2001 г. При этом согласно п. 1 ст. 12 Конвенции средства Международного фонда гражданской авиации для возмещения ущерба, который является основой механизма ДМВ, формируются за счет взносов, которые в обязательном порядке взимаются эксплуатантом в отношении каждого пассажира и каждой тонны груза, отправляемых международным коммерческим рейсом из аэропорта в государстве-участнике (или, при наличии соответствующего заявления государства-участника, отправляемых рейсом, выполняемым между двумя аэропортами в таком государстве-участнике). То есть ДМВ, по сути, осуществляется не средствами соответствующих правительств, как можно было бы ожидать, а исключительно за счет взносов, взимаемых авиаперевозчиками с пассажиров и грузоотправителей.
При этом речь об ответственности в классическом смысле этого слова в Конвенции 2009 г. не идет. Предусмотренный ей механизм компенсации ущерба можно скорее охарактеризовать как «распределение затрат на управление рисками», а не ответственность в смысле наказуемости; слово «ответственность» используется в Конвенции в оперативных статьях для определения меры возмещения; в положениях о страховании также говорится об «ответственности», однако этого слова нет в названии документа, что не может не привлечь внимания [19].
Данное обстоятельство вызвало критику в доктрине и среди представителей авиационной индустрии [1].
С данной критикой представляется возможным согласиться. Можно отметить, что в международной практике существуют примеры, подтверждающие возможность привлечения государства к выплате компенсаций в случае причинения ущерба в результате преступлений. Так, в Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений (Страсбург, 24 ноября 1983 г.) [4] предусмотрено, что в отношении определенных категорий потерпевших государство обязано взять на себя возмещение убытков в случае, если такое возмещение не может быть обеспечено из других источников (п. 1 ст. 2).
Подчеркнем также, что и механизм возмещения ущерба, основанный на принципе ответственности эксплуатанта, нельзя считать обеспечивающим право потерпевших на получение компенсации. Как отметил С.С. Юрьев, «из положений конвенции [о возмещении ущерба в результате АНВ 2009 г.] можно сделать только вывод о том, что все претензии должны направляться в суд государства-участника, на территории которого причинен ущерб актом незаконного вмешательства, при этом иск о возмещении ущерба предъявляется только к авиакомпании (ст. 28, 31 проекта конвенции). Представьте себе обычного гражданина любой страны мира и осмыслите, как он будет отстаивать права в суде другого государства...» [23]. Представители ряда государств (Китай, Франция) при обсуждениях в Совете ИКАО также указали, что проекты Конвенций 2009 г. «не обеспечивают оптимальной защиты потерпевшим и не полностью совместимы со всеми правовыми системами» [7].
Таким образом, следует признать, что принятые в 2009 г., но пока не вступившие в силу конвенции не изменяют кардинальным образом юридический механизм возмещения ущерба третьим лицам, предусмотренный действующей Римской конвенцией 1952 г., поскольку не предусматривают возможность привлечения ни лиц, причастных к АНВ, ни государств к материальной ответственности в связи с причинением ущерба третьим лицам. М.Б. Дженнисон отметил, что лишь в маловероятных случаях превышения ДМВ правительства государств в духе солидарности обеспечивают компенсацию в соответствии с собственными законами и политикой, однако эта инициатива является сугубо добровольной и никак не отражена в Конвенции 2009 г. [19]. В основном же обязанность по возмещению ущерба относится на эксплуатантов и косвенно - на пассажиров и грузоотправителей. Возможно, в том числе, с этим обстоятельством связан и невысокий темп ратификации данных документов государствами - спустя более шести лет с момента принятия они так и не вступили в силу.
НОВОСТИ
- "Назад к ничтожеству: контрреформа закона об адвокатуре" стрим Андрея Рагулина и Романа Мельниченко
- Заявление Специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации
- Первый Всероссийский съезд адвокатов: рождение «монстра» стрим Романа Мельниченко и Андрея Рагулина
- Новый закон об адвокатуре: в ожидании золотого века: стрим Романа Мельниченко и Андрея Рагулина
- Международная научно-практическая конференция «Российская адвокатура: независимость, самоуправляемость, защищенность» (9 декабря 2023 г., 10-00 Мск.).
- Беседа с Адвокатом Андреем Рагулиным
- Принятие антиадвокатских поправок в закон об адвокатуре
- Independent expert assessment on the Draft Law to amend the Federal Law “On legal practice and legal profession in the Russian Federation”, no. 301952-8
- Антиадвокатская сущность адвокатских палат: стрим Романа Мельниченко и Андрея Рагулина
- Обращение Правления Межрегиональной общественной организации "Инициатива 2018" в органы Организации Объединенных Наций, к международным ассоциациям адвокатов и правозащитным организациям
- Круглый стол «Российская адвокатура: защита для защитников» (28 октября 2023 г., 10-00 Мск).
- Круглый стол «Законодательство об адвокатуре в России: прогрессивное развитие или деградация?» (25 ноября 2023 г., 10-00 Мск).
- Научно-практическая Конференция Союза "Негосударственный Экспертный Научно-Исследовательский Центр Судебных Экспертов и Специалистов"
- Мнение Комиссии по продвижению законодательных инициатив в сфере социальных и профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга / о проекте Федерального закона №301952-8 /
- Защитим российскую адвокатуру - 2023!
- Обращение Совета АП Новосибирской области о содержании Законопроекта о внесении изменений в законодательство об адвокатуре
- Независимое экспертное заключение на проект Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 301952-8
- Обращение в защиту российских адвокатов, подвергающихся преследованию
- 9-й форум по криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2022
- 14-15 сентября в Москве состоится 9-й международный форум по криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2022.