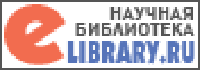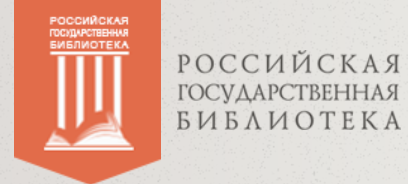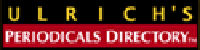Толкование и применение правил о распоряжении общим имуществом супругов в правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации
Толкование и применение правил о распоряжении общим имуществом супругов в правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации
Проблемы толкования и применения правил о распоряжении общим имуществом супругов, закреплённых в статье 35 Семейного кодекса Российской Федерации, на сегодняшний день вызывают множество разногласий как в науке, так и в правоприменительной практике, в связи с чем относятся к числу наиболее актуальных. Ситуация осложняется отсутствием нормативных разъяснений высшего судебного органа по многим из актуальных вопросов правоприменения.
Одной из таких проблем в настоящее время остаётся вопрос о применении правил ст. 35 СК РФ к правоотношениям с участием бывших супругов. От его разрешения зависит, в частности, необходимость получения нотариально удостоверенного согласия бывшего супруга для совершения сделок, перечень которых закрепляется в норме абзаца 1 пункта 3 ст. 35 СК РФ. Данная норма в действующей редакции, в отличие от действовавшей ранее [2, с. 12], содержит следующие категории таких сделок:
1) сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации;
2) сделки, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма;
3) сделки, подлежащие обязательной государственной регистрации.
Распространённый на сегодняшний день подход, выраженный в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 14 января 2005 г. № 12- В04-8, заключается в применении ко всем сделкам по распоряжению общим имуществом супругов, совершаемым после расторжения их брака, правил ст. 253 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не ст. 35 СК РФ. В основе данной позиции лежит невозможность распространения норм ст. 35 СК РФ на правоотношения бывших супругов как лиц, не являющихся супругами ввиду расторжения их брака («иных участников гражданского оборота»).
Следование такому подходу, во-первых, влечёт отсутствие необходимости в получении нотариально удостоверенного согласия другого бывшего супруга для совершения перечисленных в абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ сделок. Во-вторых, применяя правила ст. 253 ГК РФ, суд отдаёт безусловный приоритет защите интересов добросовестного контрагента - приобретателя имущества и, как следствие, гражданского (имущественного) оборота и его стабильности, а не интересов бывшего супруга, согласие которого на совершение сделки отсутствует. Это обусловлено положением, содержащимся в п. 3 ст. 253 ГК РФ, согласно которому совершённая одним из участников совместной собственности сделка по распоряжению общим имуществом может быть признана недействительной по требованию остальных участников только в случае доказанности того факта, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об отсутствии у участника, совершившего такую сделку, необходимых для её совершения полномочий, то есть действовала недобросовестно. Оценка движимого имущества accountprofi.ru заключается в определении объективной стоимости оцениваемого объекта, относящегося к данной имущественной категории. К движимому относится имущество, не являющееся по своей сути недвижимостью (то есть участком земли либо постройками). Это автомобили, оборудование, мебель, украшения, животные, предметы антиквариата и многое другое. Собственность в бизнесе также входит в эту категорию.
Иными словами, «бывший супруг вправе самостоятельно совершать распорядительные сделки с особо ценными объектами, входящими в состав супружеского имущества», а «оспорить такие сделки практически невозможно» [3, с. 120].
В специальной литературе упомянутый подход неоднократно подвергался основательной критике. Помимо этого существует предложение не просто применять ст. 35 СК РФ в действующей редакции к правоотношениям бывших супругов, а дополнить данную статью соответствующим пунктом, который бы прямо указывал на её применение к «случаям совершения сделок бывшими супругами» [5, с. 80].
Главным образом научная дискуссия относительно обозначенного вопроса сводится к тому, какому из юридических фактов придавать определяющее значение - расторжению брака, влекущему утрату супругами соответствующего семейно-правового статуса, или принадлежности неразделённого имущества супругов, брак которых расторгнут, к совместной супружеской собственности, в отношении которой действуют нормы главы 7 СК РФ, в том числе ст. 35 о распоряжении общим имуществом супругов. Иными словами, в качестве определяющего принимается либо критерий субъектного состава отношений, регулируемых ст. 35 СК РФ, либо критерий принадлежности, происхождения неразделённого общего имущества супругов, сохраняющего статус их совместной собственности и после расторжения брака супругов.
Примечательно, что избранная и последовательно поддерживаемая (см., например, Определение ВС РФ от 13 октября 2015 г. № 55-КГ15-5) Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ правовая позиция на сегодняшний день зачастую не разделяется нижестоящими судами общей юрисдикции, о чём свидетельствует множество примеров. В частности, изучение материалов судебной практики показывает, что в ряде случаев Московский городской суд отдаёт приоритет режиму «совместной собственности сторон на общее имущество», указывая, что «расторжение брака не влечёт за собой изменения» данного режима, и приходит к выводу о применении к правоотношениям бывших супругов ст. 35 СК РФ (см., например, Апелляционное определение Московского городского суда от 14 ноября 2012 г. по делу № 11-27047).
Однако нельзя не заметить, что и вопросы толкования и применения самих правил, содержащихся в рассматриваемой ст. 35 СК РФ, во многом остаются открытыми. Единство в понимании данных правил на сегодняшний день не достигнуто. Один из таких вопросов, имеющих принципиальное значение, заключается в следующем.
Подобно упомянутому ранее правилу п. 3 ст. 253 ГК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ зиждется на защите интересов добросовестных контрагентов: для признания недействительной совершённой одним из супругов сделки по распоряжению их общим имуществом необходимо доказать, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на её совершение. Тем не менее, согласно правовой позиции, выраженной в Определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 6 декабря 2011 г. № 67-В11-5, сделки, перечисленные в абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ, требующие получения нотариально удостоверенного согласия другого супруга, признаются недействительными по одному мотиву отсутствия указанного согласия (абз. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ), без применения нормы абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ. Таким образом, вне зависимости от добросовестности контрагента предпочтение отдаётся интересам супруга, чьё нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки не было получено. Приверженность высшего судебного органа данному подходу на сегодняшний день подтверждается и другими примерами (см., например, Определение ВС РФ от 19 мая 2015 г. № 19-КГ15-8).
Имеются ли основания для того, чтобы не применять абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ при разрешении споров о признании недействительными сделок, подпадающих под перечень абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ? Представляется, что юридико-техническое несовершенство ст. 35 СК РФ позволяет дать на данный вопрос как положительный, так и отрицательный ответ.
Как отмечает, в частности, Л.Б. Максимович, для признания недействительными указанных сделок «необходимо и достаточно лишь подтверждение факта отсутствия согласия супруга», а «добросовестность приобретателя по сделке не имеет значения» [4, с. 68]. Однако данный подход может быть подвергнут критике [2, с. 14]. «Само по себе отсутствие согласия супруга не является основанием для признания сделки недействительной, супругу необходимо доказать информированность второй стороны по сделке» [1, с. 60]. Некоторые суды общей юрисдикции также приходят к такому выводу (см., например, Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Дагестан от 9 января 2014 г. по делу № 33-4462/2013). В связи с этим в специальной литературе отмечается, что российские суды и «в период существования брака не всегда на первое место ставят интересы семьи и разрешают спор в пользу добросовестного приобретателя» [9, с. 108], даже в тех ситуациях, когда речь идёт о сделках, подпадающих под перечень абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ.
Конечно, невозможность признания сделки по распоряжению общим имуществом супругов недействительной ввиду защиты прав добросовестного контрагента не лишает супруга (бывшего супруга) возможности использовать другие допустимые способы защиты нарушенного права. В связи с этим нельзя сказать, что интересы такого супруга не учтены, как это отмечается в литературе [9, с. 105]. В частности, как справедливо разъяснено в абз. 1 п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», суд, установив при рассмотрении требования о разделе общего имущества супругов, что один из них произвёл отчуждение данного имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, при разделе учитывает это имущество или его стоимость. Это обусловлено положением п. 2 ст. 39 СК РФ, позволяющим суду отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе при его разделе, в том числе исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов. Помимо этого, заслуживает внимания предложение, заключающееся в возмещении убытков в пользу «пострадавшего» супруга [7, с. 106] (абз. 9 ст. 12 ГК РФ), тем более что в настоящее время норма п. 2 ст. 8 СК РФ указывает на осуществление защиты семейных прав не только способами, предусмотренными соответствующими статьями СК РФ, но и иными способами, предусмотренными законом (соответствующая точка зрения давно находит поддержку среди представителей науки [6, с. 60]).
Тем не менее, по отношению к одному из супругов, права которого в значительной степени делает уязвимым и то обстоятельство, что совершение указанных в абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ сделок в отсутствие его нотариально удостоверенного согласия в настоящее время не исключено [2, с. 13-14], последний подход нельзя назвать в полной мере справедливым [9, с. 105], невзирая на изложенное выше. При этом иной исход вряд ли возможен, если отдавать приоритет защите прав другой стороны сделки и стабильности имущественного оборота (за исключением ситуаций, когда доказана недобросовестность контрагента).
Справедливо отмечается, что в рассматриваемых ситуациях имеется «своеобразная конкуренция институтов добросовестных контрагентов (третьих лиц), вступающих в сделки с одним из супругов, и интересов второго супруга, непосредственно не участвующего в сделке» [8, с. 32-33]. Иными словами, конкурируют интересы одного из супругов (бывших супругов), интересы семьи, с одной стороны, и интересы другой стороны сделки, а также стабильности имущественного оборота - с другой. Острота данной конкуренции весьма явно проиллюстрирована при помощи изложенных в указанных определениях ВС РФ правовых позиций.
В качестве заключения представляется возможным отметить следующее. Посредством первой из обозначенных выше правовых позиций ВС РФ, по сути, отказывается от защиты интересов бывшего супруга при совершении другим бывшим супругом любых сделок по распоряжению их общим имуществом, отдавая предпочтение защите интересов другой стороны сделки (при условии, что не доказана её недобросовестность), а также стабильности имущественного оборота в целом. Как замечает У.Б. Филатова, это «может быть оправдано концепцией его (бывшего супруга. - А.З.) ответственности за сохранение режима совместной собственности вне законодательной конструкции законного брака» [9, с. 105].
Вторая из рассмотренных правовых позиций свидетельствует о применении высшим судебным органом аналогичного подхода в отношении сделок, совершаемых одним из супругов в период брака, однако лишь в ситуациях, когда речь идёт о не предусмотренных абз. 1 п. 3 ст. 35 СК РФ сделках, согласие на совершение которых предполагается (абз. 1 п. 2 ст. 35 СК РФ), поскольку, согласно ВС РФ, только в отношении таких сделок применимо отмеченное правило абз. 2 п. 2 ст. 35 СК РФ, схожее с положением п. 3 ст. 253 ГК РФ.
Как было показано ранее в ходе описания указанных подходов, они не лишены недостатков и в связи с этим носят дискуссионный характер, подвергаются обоснованной критике. Невзирая на их преобладающий характер, нельзя не заметить, что они в настоящее время не всегда разделяются в правоприменительной практике нижестоящих судов общей юрисдикции. Примечательно и то, что на данный момент отсутствует их закрепление на уровне постановления Пленума ВС РФ, невзирая на высокую актуальность рассмотренных вопросов.
Вне всяких сомнений, поиск оптимального баланса, соотношения отмеченных выше конкурирующих интересов - сложнейшая задача, результатом решения которой, как представляется, должны явиться определённые, чётко сформулированные и согласованные между собой законоположения. Таким образом, окончательное разрешение рассмотренных вопросов в будущем напрямую зависит от совершенствования закреплённых в ст. 35 СК РФ правил, что позволит не допустить каких-либо разночтений в их толковании и применении и, как следствие, связанных с ними злоупотреблений. Продолжающиеся доктринальные дискуссии и противоречивость правоприменительной практики, отсутствие единства в понимании указанных правил явно свидетельствуют о необходимости принятия соответствующих мер на законодательном уровне.
НОВОСТИ
- "Назад к ничтожеству: контрреформа закона об адвокатуре" стрим Андрея Рагулина и Романа Мельниченко
- Заявление Специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации
- Первый Всероссийский съезд адвокатов: рождение «монстра» стрим Романа Мельниченко и Андрея Рагулина
- Новый закон об адвокатуре: в ожидании золотого века: стрим Романа Мельниченко и Андрея Рагулина
- Международная научно-практическая конференция «Российская адвокатура: независимость, самоуправляемость, защищенность» (9 декабря 2023 г., 10-00 Мск.).
- Беседа с Адвокатом Андреем Рагулиным
- Принятие антиадвокатских поправок в закон об адвокатуре
- Independent expert assessment on the Draft Law to amend the Federal Law “On legal practice and legal profession in the Russian Federation”, no. 301952-8
- Антиадвокатская сущность адвокатских палат: стрим Романа Мельниченко и Андрея Рагулина
- Обращение Правления Межрегиональной общественной организации "Инициатива 2018" в органы Организации Объединенных Наций, к международным ассоциациям адвокатов и правозащитным организациям
- Круглый стол «Российская адвокатура: защита для защитников» (28 октября 2023 г., 10-00 Мск).
- Круглый стол «Законодательство об адвокатуре в России: прогрессивное развитие или деградация?» (25 ноября 2023 г., 10-00 Мск).
- Научно-практическая Конференция Союза "Негосударственный Экспертный Научно-Исследовательский Центр Судебных Экспертов и Специалистов"
- Мнение Комиссии по продвижению законодательных инициатив в сфере социальных и профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга / о проекте Федерального закона №301952-8 /
- Защитим российскую адвокатуру - 2023!
- Обращение Совета АП Новосибирской области о содержании Законопроекта о внесении изменений в законодательство об адвокатуре
- Независимое экспертное заключение на проект Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 301952-8
- Обращение в защиту российских адвокатов, подвергающихся преследованию
- 9-й форум по криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2022
- 14-15 сентября в Москве состоится 9-й международный форум по криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2022.